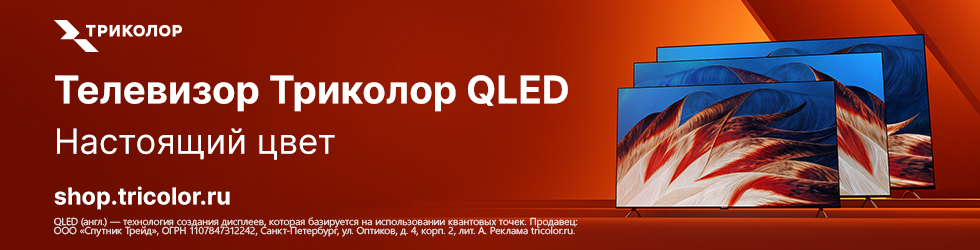Судя по министерским отчетам и анализу деятелей рынка, ситуация с кадрами в ИТ и электронной отраслях – тяжелая, но перспективы – светлы как никогда. За последние четыре года рост количества специалистов ИТ-сферы составил более 50%, число спецов в ИТ-отрасли превысило 850 тыс. Только за последние восемь месяцев в неё пришло 100 тыс. новых работников. Средняя зарплата в ИТ-сфере достигла 185 тыс. руб.
Разрыв между средней зарплатой в экономике (около 85 тыс. руб. до вычетов) и в отрасли – кратный. Это – лишнее свидетельство дефицита ИТ-кадров. При том, что рост объема ИТ-услуг, оказанных в 1-м полугодии 2024-го, составил 63% год к году, ИТ-отрасль (как и ИТ-сегмент на предприятиях любых отраслей) – самая быстроразвивающаяся в стране. Конкуренция за кадры – жесточайшая: ИТ-спецов переманивает всё у всех. По оценке Минцифры, не хватает около 740 тыс. сотрудников, по мнению бизнеса – 1 млн.
Известнейший немецкий футуролог Герд Леонгард еще пару лет назад, в самом начале ИИ-хайпа, предупредил мир, что через 10 лет все программисты станут безработными. Писателей кода искусственный интеллект заменит первыми. И всё-таки.
В 2024-м Минцифры содействовало двукратному увеличению числа бюджетных мест на ИТ-специальности в российских вузах. В итоге 125 тыс. абитуриентов поступили «на бюджет», еще 70 тыс. учатся «на свои». Министр Шадаев сообщил, что сейчас более 600 тыс. студентов обучаются на ИТ-специальностях в 500 вузах РФ, а ЕГЭ по информатике стал самым популярным выбором среди естественнонаучных дисциплин. В 2024-м его сдавали 122 тыс. выпускников. Т. е. эти по общему признанию «хромые» тесты сдают на 30% больше по сравнению с 2020-м.
Директор 1С Борис Нуралиев отметил, что, по данным ассоциации РУССОФТ, в ИТ-отрасли РФ заняты до 3% всех работающих. Минцифры насчитало около 2%. По этому показателю РФ догоняет Румынию и Словению, но, например, в странах Северной Европы в ИТ занято втрое больше людей. В среднем в ЕС на айтишников приходится около 4,6% рынка труда. В софтверном объединении АПКИТ полагают, что к 2030-му понадобится минимум 4,9% айтишников среди всех занятых РФ: по расчётам в 2025-2030 годах нужно привлечь 2 млн новых ИТ-спецов высокой квалификации и 700 тыс. – средней.
Не совсем понятно – зачем. Оборот всей российской ИТ-отрасли – $31 млрд. Для сравнения: в Индии – более $100 млрд. Почему процент условных айтишников в РФ должен быть таким же, как там?
К тому же и на рынке, и в ведомстве, признают, что «количество подготовленных студентов никак не переходит в качество». Несмотря на популярность ИТ-отрасли, выпускники вузов часто не соответствуют требованиям рынка.
«Единственный вариант – обеспечить качественное преподавание», – открыл Америку министр Шадаев.
Для этого совместно с Минпросвещения, Минобрнауки, представителями бизнеса и лидирующих IT-компаний с 2025-го «внедрят ряд мер».
Одной из «ключевых», по замыслу ведомства, станет «принуждение» к обучению студентов самих ИТ-компаний. Минцифры предлагает обязать ИТ-компании организовывать стажировки и вести преподавание профильных дисциплин в вузах. Ещё в августе Максут Шадаев предположил, что с 2025-го может принудить аккредитованных ИТ-игроков вкладывать 5% сэкономленных льготами денег в подготовку кадров. К идее в отрасли отнеслись со скепсисом, отдав-таки должное её парадоксальности: крупные ИТ-компании давно и активно работают с образовательными учреждениями, обучают персонал. Не потому, что выполняют министерские нормативы, а просто следуют здравому смыслу и острой необходимости.
«Я трачу на образование ИТ-молодежи, по меркам своего бизнеса – много: и уж точно – в десятки раз больше, чем 5% налоговой экономии. И мне это нравится. Но если меня в сперва стали «заставлять» отчислять от прибыли или оборота, я, вероятно, не стал бы заниматься университетом», – заявил на недавнем кадровом слёте РУССОФТ директор-основатель йошкар-олинской ИТ-компании iSpring – одного из лидеров EduTech в мире Юрий Усков. К слову, он уже открыл одноименный частный ИТ-колледж.
Системным решением проблемы кадрового дефицита, по мнению «цифрового» министра РФ, может стать расширение программы «Приоритет-2030», которая предполагает создание новых «цифровых кафедр» с ведущими ИТ-компаниями. Уже более 200 тыс. студентов обучаются на подобных, получая дополнительные ИТ-компетенции «без отрыва от освоения основной специальности».
При этом он назвал приоритетной мерой развитие преподавания фундаментальных наук: «У нас только 9% тех, кто поступает на ИТ-специальности, выбирает фундаментальные дисциплины: прикладную математику, физику, механику, радиоэлектронику. Но именно таких кадров нам сейчас не хватает». Чем «ключевые» меры хуже или лучше «приоритетных» – на рынке понимают по-разному.
Глава InfoWatch и АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская усилия Минцифры поддержала, но с дополнениями. В ноябре на конференции «Импульс. Т1» Касперская предложила системные меры развития и удержания специалистов в России, в т. ч. обязательные контракты ИТ-компаний с университетами о стажировках. Однако оговорилась: «Ставить на стартапы – не наш путь. Идея тянется с довоенных времен, но работает она только в США. Для российских вузов и ИТ-компаний не подходит. Alma Mater должна давать фундаментальные знания, а не – о текущих технологиях. Яркий пример – блокчейн. Несколько лет назад эту фичу вставили во все госпрограммы. А теперь госы жалятся, что бюджеты-то есть, а интереса – нет. Если выпускник имеет фундамент, базу – быстро переучится под новые технологии, а если прошел курсы «Яндекса» – толку-то от него!».
Как не вспомнить известную профессоршу в российской бизнес-школы, восклицавшую: «Не бывает никакого «базового гуманитарного образования» – только естественнонаучные дисциплины: от физики и химии до биологии! На социологии, вот, шесть лет учат, у выпускников в головах – одна каша. А из среднего математика мы крепкого социолога за полгода делаем!».
Директор по стратегическому развитию зеленоградского «Микрона», главный конструктор процессорной линейки «Амур» Карина Абагян, обсуждая кадровый вопрос на недавней выставке «Электроника России», резонно заметила, что американский подход к образованию для ИТ, инженерии в целом, основан вовсе не на подготовке внутри страны: «В США не так много хороших технических школ, мощных университетов – единицы. Ставку там делают на миграцию талантливой молодежи из стран, где образование хорошо развито – ЕС, Китая, России, Индии, Японии. Америка предлагает им широкий выбор преуспевающих HiTech-компаний, крупных и массовых инвесторов, заветный для многих «американский образ жизни» и пр.
Американцы в целом свято верят в технологии. Они, и правда, могут решить множество прикладных задач: дать миру дешевую еду, энергию, чистую воду, сделать доступными знания. Но никогда не смогут устранить проблемы, устранить социальное неравенство, политические проблемы, безработицу, терроризм. Технологии их только усугубляют. И это – прямо касается качества и пользы образования.
Юрий Усков говорит, что с фундаментальной подготовкой в вузах «стало совсем плохо». Даже при поддержке компаний университеты дают пока лишь стек технологий – некий набор ИТ-инструментов, но это, по его мнению, – полбеды: «У нас общая проблема – коллективно мы не понимаем, чего хотим. Отрасль формирует заказ для системы образования. Но – для чего именно – все понимают по-разному».
Реальная потребность в ИТ-специалистах и инженерах прямо зависит от сценариев развития российской ИТ-индустрии. По мнению профи, их – четыре:
1. Сервисный – разработка софта на заказ, аутсорсинг, системная интеграция, обслуживание популярных ИТ-решений и т. п.;
2. Импортозамещающий – выпуск аналогов ино-продуктов;
3. Продуктовый глобально-ориентированный;
4. Создание мощных российских цифровых платформ. Для каждого из этих направлений развития нужны различные технологические и продуктовые, а также гуманитарные компетенции, для 4-го еще и – умение работать с глобальной аудиторией и пр.
Т. е. – самые амбициозные планы российского ИТ-развития требуют скорее гуманитарных знаний и навыков наднационального качества.
Последним в российских вузах не учат. По мнению Ускова, российские вузы, увы, не дают уже и фундаментальных знаний. Потому что – переориентированы на «реальные потребности бизнеса и рынка». Какие, точки зрения абстрактного «ИТ-развития», – не понятно: «Люди, которых мы называем ИТ-джуниоры – таковыми не являются. Выпускники наших вузов – обладатели дипломов. – говорит глава iSpring. – Наверное, они могут писать проги, но проги никогда не станут продуктами. Тем более – глобальными. Мы с государством и цифровой администрацией смотрим в самый низ образовательной «воронки». А там – нет ничего. Нужно зреть в самый ее верх».
К слову немец-футуро Герд Леонгард полагает, что нынешних детей бесполезно учить прикладным точным дисциплинам: «Мы вдруг оказались в мире, где более 70% востребованных в скором будущем профессий еще не существуют, а 50% ныне существующих профессий вскоре превратятся во внештатные. Все меняется слишком быстро. Например, в индустрии соцсетей, которой толком не существовало еще десятилетие назад, сегодня заняты 21 млн человек. Сейчас люди стараются учить детей точным наукам – математике, физике, программированию, инженерным дисциплинам. Но это – именно то, в чем машины уже сейчас нас превосходят»
А Усков из Марий Эл говорит, что главное в России, – всем одинаково понять: что есть качественное образование и настоящий специалист высокого уровня: «Единственная глобальная цифровая платформа с русскими корнями (Google Сергея Брина – не в счет) – Telegram, это – 50 человек в техотделе. Мне довелось общаться с американскими айтишниками топ-уровня. Их учили для начала в хороших средних школах и колледжах. И главный их скилл – не "хард" и не "софт", а прекрасное гуманитарное базовое образование, точнее – умение продуктивно философствовать. Правильно видеть себя, свой бизнес, страну и технологии в глобальном мире и рынке. Если система образования РФ будет готовить всего 1000, но топовых ИТ-профи в год, через пять лет в стране появятся мировые ИТ-гиганты».
Так каких же специалистов нужно готовить, какие айтишники нам нужны? Такие же, как любой индустрии! Как тут не вспомнить слова президента, Верховного главнокомандующего на недавней «Прямой линии» с народом России: «Нам нужны те, кто готов и хочет. Таким надо только немного помочь». Владимир Путин вспомнил своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина. Тот брал в учебу не тех, кто больше всех подтянется, а тех, кто тянулся «до последнего».

Тому же учит нас признанный гуру менеджмента, сродник Рахлина, но только – американец – Питер Друкер: «Любой организации для преуспевания нужны люди «класса А» – имеющие одновременно способности к конкретной работе (В) и серьезно к ней относящиеся (С). Людей, лишенных качеств В или С можно как-то подтянуть. С теми, у кого нет ни В, ни С – делать нечего».
По мнению ректора одного из самых продвинутых ИТ вузов России – ленинградского ИТМО Владимира Васильева, роль университетов, остается очень важной: «В столицах на одну ИТ-вакансию приходят 4-5 резюме от «джунов». Но вот фундаментального образования, системного, критического и креативного мышления они часто оказываются лишены. Поэтому очень важно, чтобы вузы взаимодействовали с бизнесом, формируя «экосистемы», в которых университеты, бизнес и государство вместе готовят кадры. Университеты необходимы, но их роль должна быть переосмыслена».
По словам Васильева, вузы должны стать максимально гибкими, быстро реагировать на изменения в мире технологий и науки, но при этом сохранять фундаментальный подход к обучению.
Да, всё так. Но все-таки осмелимся дополнить уважаемого ректора. Гений индустрии всегда появляется «ниоткуда». Кого, как, а главное – для чего учить профессии, прекрасно показано в полнометражном американском мультике «Рататуй». Главный его герой – крысёнок Реми выделяется из среды сородичей тонким обонянием и вкусом (В). Он любит готовить и мечтает стать шеф-поваром в настоящем ресторане (С). И тут к нему является дух великого французского повара Огюста Гюсто со словами: «Кулинаром может стать каждый!»
«Тот, кто готов и хочет, – повторим мы за Владимиром Путиным. – Тому нужно только немножко помочь!».
*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.